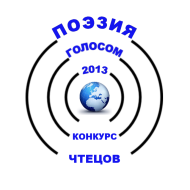Пролог Он познакомился с ней на автовокзале. Она, молодая, слегка потрепанная женщина, пившая вчера с какими-то полузнакомыми мужиками, потерявшая не только кошелек с деньгами, но и паспорт, сидела с головной болью и слезами, и думала - как ей выбраться из этой ситуации и доехать домой. Мужчина, который подошел к ней, был ласков, обаятелен и немного навязчив, на что она сразу не обратила внимания и была рада любому участию в ее удрученном положении. Он спросил куда она едет. Оказалось, что он едет туда же. Разговорились и он, выслушав ее приключения, просто сходил к кассе и, вернувшись, с улыбкой протянул ей билет. - Вот видите! А вы расстраивались… До автобуса оставалось два часа и он, постукивая пальцами по дипломату, смущенно пригласил ее погулять по городу. Дурашка, потерявшая всякую надежду на отъезд домой, была довольна, что высокий, симпатичный мужчина, не только обратил на нее внимание, но и купил билет, и пригласил ее погулять и, что совсем уже было приятно, предложил перекусить и выпить вина. По пути они проходили мимо пятиэтажек, где были магазины, кафе, пивнухи и где можно было покушать, и выпить, но он сказал, что у него с собой все есть и, взяв ее под руку, повернул за дома, сказав ей, что там есть хорошее место у реки, где можно славно посидеть. Когда они вышли на окраину городка и начали спускаться к реке, то прошли мимо сгоревшего когда-то дома, где он споткнулся, потерял равновесие, странно посмотрел на обугленные остатки бревен, извинился перед ней за неловкость и они спустились вниз, перешли через лавицу, собранную из кривых и полусгнивших досок, прошли густые ивовые кусты и вышли в мелкий березняк, где нашли удобное пристанище для расслабления и взаимного удовольствия. Для начала надо объяснить, что Болдинская это не улица. На конверте, чтобы письмо дошло, нужно писать - «Болдинский проезд, д. 8». Назван он был в честь какого-то местного героя-партизана, которого, как говорила моя бабушка, боялись не столько немцы, сколько оставшиеся в оккупации, селяне. Но речь не о партизане, а о «Болдинской 8», которая в таком виде и прилипла к языкам горожан. Дом номер 8 по Болдинскому проезду предназначался для рабочих, строивших когда-то городской мясокомбинат. Когда комбинат построили, некоторые рабочие уехали, а некоторые остались трудиться на производстве. Так сохранился трухлявый двухэтажный, деревянный дом барачного типа в самом тупике проезда, на спуске к реке, в которую комбинат сбрасывал свои кровавые, гниющие отходы, создавая в округе вонь удушливую и блевотную, к которой мы привыкли и почти уже не замечали (если только для определения направления ветра). За речкой рос густой ивняк, дальше виднелись низкорослые березки, переходившие в такой же низкорослый сосняк, где можно было при удаче насобирать маслят и моховичков. Дом был стар, ветх, гнил и ни разу не ремонтирован. Щели размножались повсюду и каждый жилец, кому дуло из щелей, заделывал пробоины на свой лад. Поэтому стены дома выглядели, как лоскутное одеяло из всяческой обрези и ненужного тряпья - где-то кусок рубероида, где-то доски вкривь и вкось, где-то кусок двп с подложенным под него старым пальто - все свисало, махрилось, зеленело плесенью и походило на обличие окраинного бомжа, завшивевшего, немытого годами, больного и скособоченного… Но был и палисадник во дворе, где ежегодно высаживались цветы, была за домом беседка, летом увитая диким виноградом, были сараюшки под одной крышей, в них жили куры, утки. Позади дома, уже за оградой, спряталась болотинка с торчащими из ее плотной ряски ножками стульев, железяк, голенища сапог и прочей, сброшенной туда дряни. Но там, несмотря ни на что, водились карасики, иногда размером в ладошку. Утки процеживали плоскими клювами эту жидкую мерзость, но были сыты и довольны. Жила в сарае и одна свинюшка, каждый год новая и всегда Машка, поэтому в сознании и сохранилась одна свинья в среднем сарае с именем Машка. Сбоку дома и за ним жильцы устроили себе по небольшому участку под лук, огурцы, помидоры и разную зелень, которые системно разворовывались мелкими жильцами, то есть, мной и Иркой-чумой. Они сажали, мы хитили. Они сажали снова, проклиная нас и побивая иногда крепко. Те пять лет, которые я прожил в этом доме, события, которые память оставила мне и я пробую описать, проскочили, как несколько десятков кадров кино и никак не укладывались в большую длительность. Поэтому я плюнул на мнимую протяженность времени и стал писать, как я видел, что чувствовал, картинками, заметками, кусочками избирательной памяти, не задумываясь, по какой причине произошло то, что произошло. Дом и жильцы Изнутри дом на двух этажах разделялся большим коридором, по бокам которого находились квартиры, то есть по комнате на каждую семью. При входе, первая дверь налево - это я с бабушкой. Родители, как говорила бабушка, находились в длительной и далекой командировке, откуда почему-то никогда не писали, даже к Новому году. Напротив нашей комнаты скрипела круглосуточно дверь в общую кухню, вытянутую вдоль правой стены и упиравшуюся в сортир. Если в одном конце кухни что-то готовили и пахло вкусно, то на другом обязательно кто-то хезал, наполняя кухню совсем другим запахом. Все к этому привыкли, и все непременно орали друг другу: "Что, другого времени не нашла(нашел) обосраться?…" Следующая и последняя на первом этаже комната принадлежала молодой семье. Оба они работали на мясокомбинате. Иосиф Васильевич Тило - механик в цехе нестандартного оборудования. Они обслуживали технику всего производства изготавливали новую, нестандартную. "Без нас комбинат и недели не проработает" - говорил спокойный, размеренный Иосиф Васильевич. Он был русский, а Иосифом его назвали в честь Сталина. Жена Валентина трудилась обвальщицей - она срезала с костей мясо и это называлось обвалкой. Из-за нее у нас на кухне водились необычные ножи с крепкими деревянными ручками и длинными, острыми лезвиями. Их можно было в две секунды подточить приспособлением, так же притащенным с комбината и называлось оно «сталька» - металлический кругляк с насечками. Проведешь пару раз по лезвию проведешь и он, как рубанок дерево, подстрогает твердую сталь ножа. Валентина была еще спокойнее и тише своего мужа. И вообще, эта семья жила отдельной, своей жизнью и ни во что не вмешивалась. Они были бездетны и, как судачили соседи, виноват был муж. Посередине коридора на второй этаж поднималась лестница необычайной крутизны. Старухи наши вспоминали, что не один рабочий во время стройки комбината ломался на ней по пьяни с тяжелыми травмами. Эта лестница была зашита с двух сторон дсп до задней стены дома и напротив уборной под лестницу вход был закрыт маленькой дощатой дверью. Раньше это была кладовка, а теперь там жил чудоковатый, непонятного возраста Фима, нигде не работающий, бывший учитель физики а теперь инвалид, проводивший ежегодно пару месяцев в психушке. Он называл себя исключительно «Серафим - необычная птица». Он готовил только в своей каморке на древней керосинке, да и то, какие-то отвары трав, которые он собирал за речкой и сушил перевязанными веничками на гвоздиках, от чего в его гнезде всегда пахло лугом, свежестью, но частенько и самогоном, купленным с пенсии у Кирзуна, что со второго этажа. Второй этаж слева, с нашей стороны, начинался комнатой Зины-давалки, милой, одинокой и очень веселой продавщицы магазина продуктов того же мясокомбината. Прозвище «давалка» подвязали ей, наверное, дети когда-то в прошлом, а взрослые с энтузиазмом это поддержали, но при ней не высказывались - Зина и сама была остра на язык и, не озлобляясь, могла так отшить сболтнувшего лишнее, что у того надолго пропадало желание говорить о ней что-либо. По-этому с ней, или заискивали, или держали стойкий нейтралитет. Напротив Зины обитала тетя Соня, стрелок ВОХР, охранявшая дефицитное и часто выносимое с комбината мясо. Именно у тети Сони мясных изделий и мяса было больше чем у других жильцов и она имела два холодильника. Кроме того она ежегодно содержала в сарае свинью Машу для продажи и кормила ее, кроме хряпы и комбикорма, мясными отходами - всяческой вонючей обрезью, отчего ее ежегодные Машки были кровожадны и опасны, хотя и любили когда их чесали за ухом, и хрюкали мило и ласково. Сын тети Сони Толик служил в армии и иногда присылал гордые фотографии с которыми его мать по нескольку дней доставала всех соседей, угощая их даже вырезкой, чтобы ее выслушали и похвалили Толика. Через стенку от Валентины проживал Семен Кирзун с сыном Левой. Кирзун то же когда-то работал «на мясе» по снабжению, доработал до пенсии, но квартиру не получил, как говорят, по причине своей неуемной скупости и склонности писать кляузы. Будучи на заслуженном отдыхе он перестал жаловаться на всех и вся и во все инстанции. Нет, он не изменился в характере - просто он начал гнать самогон на продажу и сильно высовываться было ему не резон. Скупость с возрастом переросла в неодолимую жадность и никто в округе не мог вспомнить чтобы Кирзун дал в долг хотя бы чекушку самогона. Только Зинка могла у него взять взаймы у него денег или, при надобности, вонючего и крепкого чемергеса. Жена бросила Семена Михайловича через год после рождения ребенка и как Лева остался жить с отцом было непонятно, хотя мать постоянно (то-ли из Омска, то-ли из Томска) звала его в свою новую семью, где подрастал его сводный брат. Но Лева уже заканчивал школу и, может быть, поэтому не хотел уезжать от привычной обстановки и товарищей а, может, и нет, потому что однажды высказался так - Куда я поеду? Мне «этот» еще положенного не отдал… Слухи о сбережениях Кирзуна упорно кружились вокруг Болдинской 8. В последней комнате напротив Кирзунов обитала баба Люба-центнер, которой квартира на комбинате не светила вовсе - всю жизнь она работала уборщицей в забойном цехе и, казалось, впитала в свое огромное, амебное тело кровь, жир и вонь самого грязного и жуткого места на комбинате. Спуститься на первый этаж для нее была сущая пытка - все перевешивало то вперед, то назад и она предпочитала отсидеться на ступеньках. А бывало и так - ей было невмоготу в туалет и он не успевала, отсиживаясь на лестнице, и писалась прямо там, вздыхая и роняя беспомощные слезы. Все понимали, жалели и вопили - Центнер опять обосцалась! Зовите чуму, пусть вытирает! Ирка-чума, внучка бабы Любы, какого-то дошкольного возраста, росла у бабки без родителей. Те завербовались на Камчатку, на рыбный промысел, предвидя хорошую деньгу, и пропали (как и мои) на годы без единой весточки, не говоря уже о переводах денег. В некотором роде на этой общей основе я с ней подруживал - бочком, конечно, я - то старше, но участвовал в ее странных играх, а она ходила за мной хвостом, за что я ее не зло прогонял. Кличку «чума» Ирка получила за неадекватное поведение в доме и приверженность к мучительству насекомых и мелких земноводных в нашей болотине. Баба Люба чаще ходила в ведро чем в туалет и просила Ирку ведро выносить. А чума могла с ведром подойти к лестнице, стрельнуть вокруг слегка косившими глазами и - махнуть все содержимое ведра вниз через окно, даже, если бабка сходила по-большому. Скандалы и трепки за свои выходки она получала знатные, но не плакала, а забивалась в угол к двери Серафима и оттуда визжала - Цкоро братик у меня родится…. Цкоро… Цкоро… Он-то вам кишки и повырезает… Фима - В каждом гнезде зла должен быть свой Серафим… Я сидел на маленькой табуретке, сколоченной кое-как и постоянно защемляющей мне кожу на заднице двигающимися, не плотно подогнанными досками. Фима наливал мне чашечку очередного ароматного отвара без сахара, который по его словам был вреден, и рассказывал свои «психотропные» байки пока я пил и рассматривал висевшие на стенках под потолком различные «приборы на все случаи жизни». На стенке под лестницей приютилась Богоматерь с младенцем. Ее Фима называл умиление. А под иконой вместо лампадки на трех цепочках висела солидная колба с притертой пробкой в которую Фима периодически подливал купленный с пенсии самогон Кирзуна. Пил он очень мало и то, когда от чего-то волновался. - Повторяю, именно в каждом гнезде зла должна быть эта маленькая шестикрылая птичка - ангел, можно сказать… - А что делает ангел в гнезде зла? Мне было не столь любопытно слушать Фиму, сколько я не хотел выходить в коридор, где меня наверняка поджидала бабушка ( я уже слышал ее крики во дворе) для какой-нибудь занудливой работы. - Серафимы должны присутствовать в таких пропащих местах и наблюдать, какова возможность воплощения зла на его территории. Они вообще, как разведчики - вовремя сообщают об опасной плотности отрицательных вибраций… Круглую лысину его обрамляли тончайшие и бесцветные волосики. Когда Фима говорил, то не моргал, или моргал очень редко… - …но не только. Нам при случае разрешено вмешиваться самостоятельно и производить действия, препятствующие воплощению… Дело в том, что Фима всех в доме уже предупредил, что он шестикрылый Серафим и соответственно, по дворовым законам, получил кличку « шестикрылый семихрен». Последнее слово, правда, звучало не так цивильно. - Ну и как сейчас плотность? - не зная что спросить, пробормотал я, допивая травяной чай. Фима потер руки, встряхнул их три раза и показал на висящий под потолком «прибор». Он представлял из себя латунное кольцо с закрепленным на нем внутри на блестящем шарике тонкой стрелкой. Шарик был просверлен насквозь и болтался внутри кольца, растянуты за вставленную в отверстие ось. «Прибор» был сбаласирован так, что стрелка могла остановиться в любой точке воображаемой сферы. - Сам придумал… - Фима гордо погладил себя по лысине - Сейчас глянем… Пока сбоев не было… - он аккуратно толкнул стрелку, прибор закрутился хаотично, раскачиваясь вместе с кольцом. На это я смотрел без скепсиса. Было интересно на самом деле. Покрутившись и покачавшись, прибор стал затихать. - Смотри… - Фима говорил шепотом, подняв указательный палец вверх. - …сейчас… Его выпученные, не моргающие глаза, казалось, сами остановили «искатель». Стрелка показывала на второй этаж между Любой-центнер и Кирзуном, но через мгновение он уверенно повернула в сторону бабы Любы. - Вот так… - начал Фима… Тут дверь скрипнула и в нее просунулась косенькая Ирка-чума со своим свистящим цоканием - Твоя бабка дрыхнет, я заглянула - и просяще - Пошли лягушек надувать… Ирка-чума - Тцас… Подоззи… - шепнула мне Ирка, приставив палец к губам, когда мы быстро шмыгнули за угол. Она прошла к столбу от которого питался электричеством дом. Наверху столба торчала крестовина с путаницей проводов в разные стороны. С одной пары, уходящей в микрорайон, свисали два кабеля - это Фима искал 380 вольт для очередного прибора, но линия была обесточена и провода так и остались весеть с раздерганными внизу концами, где Чума, накалывая на медные жилы, сушила убиенных ею лягушек. Под столбом, заросший травой, лежал неведомый железный ящик с прорезанной сбоку дыркой. Чума залезла рукой по локоть в эту дыру и вытащила обыкновенный школьный пенал и из него достала шило с деревянной ручкой и трубочку для коктейлей. - Тцас... - опять шепнула она, пряча пенал на место. И мы пошли через задний двор к болотине. - Тцас… - остановил меня ее шепот. На торце бревна задней стены грелся на солнце большой жук-короед. - Тцас… - чума подошла на вытянутую руку к разомлевшему жуку и, не прицеливаясь, пригвоздила его к бревну шилом прямо в голову. - Вот так хорошо… цы, цы, цы… - такого смеха из быстро повторяющихся «цы,цы,цы» я больше ни у кого не слышал. Довольная Ирка, глядя на еще шевелящегося на шиле жука, гордо двинула к калитке. Я взял прислоненную к сараю удочку из ивового прута, копнул палкой одного червяка, что вполне хватало для моей рыбалки, и пошел догонять Чуму. Когда я подошел к бережку, заваленному тряпками, битыми бутылками и другим разноцветным хламом, Ирка уже отличилась - поймала лягушку и с серьезнейшим видом, вставив в попку жертвы трубочку, старательно надувала ее до критических размеров. И, когда казалось, что бедная лягушенция должна уже лопнуть, Ирка, радостно трясясь и приговаривая свое «ц-ц-ц-ц… Вот так хорошо», бросила зеленый, пятнистый мячик в болото, где тот беспомощно закружился, разгоняя ряску. Я пошел на другой край болота к единственному месту без зацепов и, насадив кусочек червя, забросил в небольшое окошко среди сплошной зелени, положил кончик удочки на, торчащую из воды рогульку и развалился под теплым солнцем в ароматной зелени, и задремал, наверное, потому что вздрогнул от толчка в бок и Иркиного голоса - Как ты думаешь, цкоро у меня братик родицца?… Я открыл глаза. Чума периодически доставала меня этим вопросом, а ответить ей я не знал что. Где ее родители? Может, у них уже целый детский сад братиков?… Поплавок подергался и утонул и я вытащил маленького желтенького, часто вздрагивающего от своей неудавшейся жизни, карасика, которого я скормлю кошке, родившей за сараем четверых слепых котят… - Ты как думаешь, цкоро?… - Цкоро, цкоро… - злясь, ответил я - Твоя баба Люба родит. У нее живот уже до пола отрос - и пошел не оборачиваясь на цыкающую Чуму за сарай кормить кошку. Болото было покрыто барахтающимися, безобразно раздутыми, лягушками. Лева - Прибью когда-нибудь этого гада… Мы сидели в беседке, укромном местечке, где Лева покуривал, не боясь что его увидят. Иногда он давал мне затянуться и смеялся, когда я кашлял, зеленел лицом и делал взрослый вид, плюясь под ноги. - Чего так? - спрашивал я, зная, что он говорит об отце. - Чего, чего… - кривая и горькая усмешка тенью легла на чистое, тонкое и белое лицо Левы. - Скоро выпускной вечер, блин… - он поднял ногу, показывая мне ботинок - Я в пятый раз их ремонтирую… Мне и не выйти никуда, разве что в кино - там темно… - А ты спрашивал его? - я жалел Леву, хотя эти проблемы меня еще не коснулись в полной мере - без родителей мне было трудно претендовать на лучшую, чем на бабушкину пенсию, жизнь. - Спрашивал?!… Просил!!!… Умолял!!! - Лева покраснел. Было видно, как мучительно стыдно ему за высказанное. - Сколько лет мясо налево пускал… Мать ушла - квартиру не хотел обменять с доплатой… Самогон уже лет семь гонит… Живем в клоповнике, блин… Говном этим дышим - кивнул в сторону мясокомбината. - Я-то знаю, что денег у него навалом - наклонился ко мне и шепотом - Когда он с давлением в больнице был, я все перерыл, все доски на полу перещупал, стены простучал - ничего! Ни одной заначки, блин… - кинул окурок в огород. - Все равно - в глазах его мелькнул нехороший огонек - Все равно я его вычислю! Сдохнет, ремонт капитальный сделаю, но найду Он надолго замолчал, представляя, наверное, как отколупает в таинственной щели прогнивших стен заветный сверток, коробку, с которой начнется его другая, достойная жизнь. - Ну, ты не горюй! - он хлопнул меня по плечу, как будто это я ему рассказывал свои невзгоды. - Все будет тип-топ, блин! Вот увидишь! И ушел, сорвав гроздь дикого винограда, жуя и с отвращением сплевывая. Валентина Мужа я ее видел крайне редко - он задерживался на работе, мотался на дачи начальства, то бани оборудовать, то еще что. Они стояли в очередь на квартиру со дня пуска комбината. Было сдано уже два дома, но их «объехали» более резвые или борзые сотрудники. Готовился к сдаче третий и Иосиф Васильевич прогибался как мог. Валентина приходила домой всегда в 18 часов с сумкой, здоровалась с теми, кого видела, после - комната, кухня, никаких разговоров - краткие «да», «нет» и все. Ей было тридцать лет. Вышла замуж за Иосифа сразу после школы, когда он уже закончил техникум и работал на комбинате наладчиком, и имел эту самую комнату. Под нашим окошком находилась лавочка и мои знания о соседях были взяты именно с нее от наших старух, бесконечно обсуждавших личную жизнь жильцов дома. Так я узнал, что Иосиф Васильевич еще до женитьбы болел какой-то «венерой» и через то получил осложнения на «помидоры», и теперь от него женщине толку, как от морковки. Еще я слышал, что муж Валентины давно уговаривает ее взять ребенка из детдома. Но та категорически хотела только своего, на что Иосиф Викторович в расстройстве отвечал - Тогда иди, сношайся с другим, это надежней… Валентина плакала, громыхала посудой, курила в окно и все оставалось по прежнему, На люди ничего не выносилось, а про это рассказывала бабка Чумы, подслушивая их через стенку. Однажды, когда я сидел у окна и грыз семечки, а на лавке в одиночестве грелась Соня-стрелок ВОХР, во двор, как всегда вошла Валентина с кошелкой и, поздоровавшись со «стрелком», не прошла в дом, а присела рядом с Соней. И от этой необычности я спрятался за занавеску. Весь разговор сводился к тому - знает-ли Соня мастера забойного цеха, профкомовского заместителя Володю Быкова. - Знаю, конечно… - отвечала Соня - Давно знаю. Отличный мужик… - и с большим интересом спросила - А что такое с «Быком»? Валентина засмеялась, то-ли услышав кличку, то-ли по другим причинам и сообщила «стрелку», что Быков Володя уже год, не меньше, пристает к ней и не дает проходу, делает всяческие подарки, которые она прячет в шкафчике на работе… Так они проболтали, смеясь, шутя ни о чем. Соня вспомнила своих хахалей, перемыла им кости, потом - пауза и Сонькин голос - А ты дай ему… Тебе-то какая убыль? А , может, и прибыль будет… Я буквально ощутил, как покраснела Валентина. Но отшутилась она странно - Ну ты и скажешь, дай… Так прямо сразу и с разбега. Обе расхохотались и Валентина ушла в дом. Кирзун Я постучался в дверь. Бабушка порезала палец обвалочным ножом и послала поискать йод. На стук никто не ответил, но в комнате раздалось шаркание, лязг и дребезг. Я подождал и постучал еще. Я не хотел идти к Кирзуну, но у Ирки йода не было, Серафим еще утром ушел за речку собирать травки. Остался только Семен Михайлович. - Кто там опять? - голос был сиплый с одышкой. Я объяснил, что я из первой квартиры и мне нужен йод. - Что нужно опять? - Кирзун был глуховат - Йод, йод! - почти крикнул я. - Бабушка руку порезала. - А-а-а - с трудом выдохнулось внутри, щелкнул замок в два оборота и дверь со скрипом открылась немного. Нос у Кирзуна был фиолетовый, рыхлый с крупными черными точками. Такой же фиолетовый рот, обсаженный бесцветной щетиной, открылся и показал ряд золотых коронок. - А-а-а - он закашлялся и посинел еще больше. - Это вы, молодой человек… Заходите. Пропустил меня, почему-то не открыв больше дверь и я протиснулся в отчетливый запах браги и паров самогона. Справа угол был занавешен плотной шторой, не достающей до пола и из-под нее белели две молочный фляги и красное дно газового баллона. Из-за шторы слышалось булькание и капание. - Нет, нет, не туда, молодой человек - он увидел мой любопытный взгляд на его производство, которое он называл ВПК - всем по капле. Сам Семен Михайлович уже сел в кресло у окна и показыва мне пальцем на стул напротив. - Сюда, молодой человек… Туда, хм, еще рано - он засмеялся, закашлялся надолго и опять посинел. - Вот такая старость… - задумался, поковыривая в носу и, казалось, забыл про меня. - Ну так что? - встрепенулся, захлопал глазами. - Что, молодой человек, вам нужно от меня опять? - Йод! - заторопился я, уж больно затягивалась беседа. - Йод!… Бабушку палец порезала. - Мед? - Кирзун искренне удивился. - А кто вам сказал опять что у меня есть мед? - Да не мед, а йод! Бабушка ножом палец!… - Не надо кричать, я прекрасно все слышу. Все думают, что Кирзун жадина и никому ничего не дает. Это не так, молодой человек, Кирзун всю жизнь работал не покладая рук и наработал сорок три года стажа… И что взял себе Семен Кирзун? Он сладенько прикрыл глаза глаза - с ним редко кто разговаривал и со мной он наверстывал упущенное - Только вот это - он открыл глаза и обвел комнату рукой. - 18 метров квадратных вот этой развалюхи, повышенное давление, астму и беспутного сына, готового все прогулять и похоронить отца в картофельном мешке, проеденном мышами. А, ведь, я его вырастил, один, без матери. - Мне бы йод - осторожно и просительно прервал я его. - И вот опять говорят, Кирзун жмот, ничего не даст. Это правда, молодой человек? Нет, это опять неправда. Он встал, растирая поясницу, открыл, кряхтя , настенный шкафчик и достал… банку меда! - Ну вот, молодой человек, вы видите, какой Кирзун жмот… Возьмите вон там ложку, не стесняйтесь… Я подчинялся автоматически, как под гипозом… - Нет, не ту, чайную. Возьмите… Медок липовый, но мне нельзя при астме… Мед был густой и я с трудом наковырял пол чайной ложки, съел, поблагодарил и пошел к двери, забыв уже зачем приходил. - Вкусно? - как-то ехидно или хитро прохрипело сзади. - Очень. Спасибо. - На здоровье, молодой человек. А йода у меня нет и не было. Я, видите-ли ранку спиртиком… Я скатился на первый этаж, столкнулся с Фимой, который вернулся с травяными веничками и на мою просьбу за минуту смазал йодом и забинтовал бабушке порезанный палец. Зина Зина, Зинуля, Зиночка-давалка! До сих пор вспоминаю тебя с теплом и нежностью. Ты жила одиноко и весело, даже как-то назло всем одиноко и назло всем весело. Я ревновал тебя к мужчинам, остававшимся у тебя на ночь и, чтобы не слышать сквозь потолок звуки ваших ночных равлечений, залезал на чердак, где стоял топчан около слухового окна, через которое я с грустью глядел на звезды и мечтал о том, чтобы скорее кончилось это чертово житье, пропахшее гнилью комбината, ненужное и не желаемое никем, в котором все творилось помимо воли тяжелых и ленивых душой, людей. Я не все уже помню детально. Помню приход Толика из армиии три дня застолья во дворе, оглашенный ночной рев магнитофона, мать Толика, таскающую сковороды с жареным мясом, самогон, пролитый на стол и вонючий до тошноты, помню похвальбу стрелка ВОХР, почему-то обращенную ко мне - Вот как надо сыновей встречать! Мне стало обидно за мою полуголодную неухоженность и я сказал ей, что стоять на воротах откуда тащат мясо, невелика заслуга. Зачем я это сказал!? - Во какой! - сорвалась на визг «стрелок» - Сам-то знаешь, умник, где твои родители? Нет? Сидят твои мамочка и папочка! Сидят за хищение в особо крупных размерах… А я нет! Понял, умник? И заткнись… Меня обожгло, ошпарило от такой, как я понял, безутешной правды, я рванулся, что-то опрокинув, побежал в комнату к бабушке и кричал, растирая по лицу сопли и слезы - Почему?! - я заикался и не мог правильно выговорить слова - … ты мне не с…ка…за…ла? Так я узнал, что отец работал директором крупного универмага и мать там же главным бухгалтером. Когда им подсказали свои люди в органах о близком аресте, они отправили меня к бабушке, чтобы не травмировать. Я ушел на свой чердачный топчан, смотрел на зведы, слушал затихающие крики со двора и ревел тихо и горько. Зина-Зинуля, ты поднялась на чердак утешить меня и объяснить, что нечего обращать внимание на эту дуру. Я уткнулся лицом тебе в горячую грудь, а ты гладила меня и приговаривала что-то… Да, Зина, именно с тобой тогда я почувствовал нечто новое, что давало твое доброе и безотказное тело, почувствовал будучи еще мальчиком. И это ощущение, породило во мне то, что я продолжил в старшем возрасте и размножил дальше по свету - искушение, с которым трудно совладать, раз прикоснувшись. Нет к тебе зла, нет в тебе вины, нет нам прощения, только муть белесая, как самогон Кирзуна, есть только желание хорошенько отпариться в русской бане, отхлестав как следует себя веником. Фима Фима забегал и засуетился. Такое всегда предшествовало его попаданию в дурку. Он пополнил колбу у Кирзуна и кроме травяных отваров от него исходил и запашок чемергеса. Ни с того ни с сего, однажды он купил большой баллон газа и шланг. Баллон он затащил в подвал а в комнате в полу посверлил дырку и втащил через нее шланг. На конце шланга болталось какое-то приспособление наподобие тройника с краником, совсем не такое, как у нас на кухне. Там это называлось редуктор или по простому «лягушка». - Смотри и слушай - он был поддатенький и не моргал совсем. - Газы эти живут в глубине земли и поглощают, то-есть нейтрализуют вибрации зла. Я задумал прибор… - О каком зле ты всегда говоришь? - я хотел сказать, заговариваешься - Конечно, не о мелочи всякой. Мелочь - это пакости, на них мой прибор не реагирует, а на зло… Посмотри… Фима показал мне прибор похожий на корабельный компас. Внутри деревянной чаши, покрытой стеклом, плавла стрелка, насаженная для центровки на тонкую серебристую нить. - Корпус и стрелка из бальсы, нить серебрянная, раствор я составлял лет десять, наверное. И вот! - он с гордостью показал рукой на прибор. - Белой краской «ОН», это около нормы. Синей краской «РП» - растет плотность. И на красной полосе черным «ПК» - плотность критическая. И последняя, опять красным, «В» - воплощение. - Ну и что? - спросил я, не врубаясь. - Посмотри внимательно… Я вгляделся. Стрелка находилась на краю «ОН» и немного зашкаливала на «РП» и при этом немного дрожала, словно рядом с домом проходил поезд. - Видишь? - Фима взял меня за плечи и выпученно пронзил взглядом. - Надо быть готовым - он наклонил колбу под иконой и плеснул немного в стакан. - Творится столько! - выпил, понюхал веник травы. - А я один. И надо быть начеку. - встряхнул меня за плечи дружелюбно и весело. - Как, а?!… Готовность номер один?… А гонит он плохо - воняет сильно… «Да, плачет по тебе, бедный Фима, психушка», уходя думал я. Валентина - Подожди, Валя. - Быков приобнял ее за плечи. - Зайдем ко мне, кой-какой презентик приготовил. Она все поняла и готова была уже давно. Пришло время. Покорности не было, только усталость женщины полноценной, проживающей свои лучшие годы без здоровых мужских гормонов, без зачатия и материнской радости, при ее здоровом, цветущем организме. Рабочее время закончилось. Они молча пошли в каптерку мастера, где были сложены рабчие халаты, ветошь и рукавицы. Быков закрыл на замок дверь и, не говоря ни слова о подарке, схватил Валентину крупными, сильными руками, сдавил до хруста и повалил на тряпье. Валентина привыкла к сексу с мужем, как к неизбежности вялой и неинтересной, а тут оказалась раздавленной, смятой силой активной, грубой, не страшной, а скорее, приятной и давно ожидаемой… Когда она встала, оправив платье, из нее потекло так, что она уже не стесняясь чужого присутствия, деловито и удовлетворенно вытерлась ветошью, одновременно понимая, что ей впервые нравится торжествующий взгляд мужчины на ее наготу. - Возьми, Валя… Тебе… По блату… Французские… Она взяла коробочку, не разобрав надпись, так как у нее никогда не было французских духов и улыбнувшись, потрепала фривольно в знак благодарности Быкову щеку. Зачатие произошло сразу. Чума Ко дню рождения Толика стрелок ВОХР оккупировала кухню с утра и надолго. Толик сидел в беседке с каким-то другом. Они пили «кирзач», закусывали, подворовывая с кухни и Толик, хихикая и похрюкивая, рассказывал в деталях, как он кувыркался с Зинкой. Я это слышал с болотины, ловя карасика для кошки и обижался за Зину, и ненавидел Толика, и желал ему упиться самогоном или подавиться куском мяса, чтобы он заткнулся хоть на минуту… Карасика я поймал быстро, порадовался, что не придется слушать Толикову блевотину и ушел к сараям. Возле дома на бревне на солнышке сидела Ирка с котенком, перевернутым на спину и чесала ему пузико. Последнее время она вела себя подозрительно тихо и сама ходила кругами, еще больше кося и бычась, не особо разговаривая даже со мной. Проходя, я посмотрел нет-ли у нее под рукой шила. Шила не было и я пригрозил Чуме, показывая на котенка, отчего она заерзала, засопела, глядя одновременно в разные стороны, и прижала котенка к себе. Мне понравилось, что она никого не мучает и оставил ее в покое. В кухне на двух плитах все шкворчало и парило. Пахло вкусно и дразнило мой пустой желудок. ВОХР бегала вверх, вниз, наливала, нарезала, месила тесто, говорила, что в одной духовке будет мясной пирог с грибами а в другой с яблоками. Меня затошнило и я пошел к Фиме попить чая и послушать его байки. Фима что-то пилил лобзиком и не слишком объяснялся, был трезв и деловит. Чаем он меня угостил. А я долго и бессмысленно рассматривал его приборы. Стрелка концентратора так же дрожала между «ОН» и «РП» но, показалось, что она чуть продвинулась к «РП» - росту плотности. Фима рассказал, что газовый прибор очень сложный, что ему не хватает некоторых деталей и придется идти в школу просить у физиков. Говорил, что ему надо обязательно закончить прибор за шесть-семь месяцев, а то он не успеет а ответственность велика… - Толик! Толик! - раздался в коридоре истошный крик Сони. - Толик! Что это?!! Ради бога, иди сюда! Мы выскочили в коридор. ВОХР, белая и сморщенная от отвращения и ужаса, стояла в коридоре и показывала пальцем на кухню. Стоял странный удушливый смрад. - Что это!? Топая сапогами, вломился поддатый Толик. - Что орешь? Пироги спалила? Вошел в кухню, прикрыв нос ладонью и оттуда понеслось - Ни… себе! …твою мать! Я, конечно, заглянул, что за чудо там так дурно воняет и, увидев реальность, блеванул прямо себе под ноги. На выдвинутом противне духовки, на яблочном пироге к чаю лежал скрюченный, с опаленной шерстью и выкатившимися из орбит глазами, котенок… Чуму ловили и искали все кто мог, кроме ее бабки, она свесила через перила свой центнер и ревела. - Ну что ж ты такая зараза?… Что ж ты такая очумелая?… Пускала носом пузыри, не вытирала их и медленно сползала на пол, пока не расплылась на нем в нелепой жабьей позе, причитая и плача соплями, слезами, слюной и, трясущиеся ее мокрые щеки, пролезали тестом сквозь решетку перил… Ирку не поймали. Наверное, она убежала за речку. Но под ночь, минуя все кордоны, она умудрилась просочиться домой, откуда не выходила неделю, выплескивая через окно в сад ведро с испражнениями, где и так уже давно воняло сортиром. Лева и другие Валентина заметно пополнела и похорошела лицом. Теперь она часто сидела на лавочке и разговаривала со всеми дружелюбно и с интересом. С Зиной она подружилась и часто они вместе прогуливались и ходили в магазин. Не однажды она заговаривала с Левой и мне казалось, что она былы бы ему хорошей матерью. Но жизнь крутила совсем другое колесо. Был вечер не поздний и теплый. Я сидел у Фимы и очередной раз слушал жалобы на нехватку материалов и отсутствие времени для более основательной работы. - Вот смотри…- жалобно проскулил Фима, указывая на концентратор. - Плотность растет… Медленно, правда, но растет - он горестно разве руками. - А что с искателем? - я спросил про висящий обод с шариком. - А с этим вообще не пойму - он крутанул стрелку, подождал остановки… - Вот, видишь… Не знаю даже… Стрелка искателя остановилась, указывая вниз, почти на наши головы. - Сломался что-ли? - я не знал, как посочувствовать удрученному Фиме. - Не знаю… Не знаю… Все не совершенно… Надо срочно делать… Всегда же работало… - он уткнулся в свой верстак и стал накручивать пружинку, забыв про меня и продолжая бормотать что-то свое. Я тихо закрыл за собой дверь и вышел на улицу. На лавочке сидел Толик, нервно жуя беломорину. - У твоей бабки деньги есть? - спросил он, не глядя на меня и, значит, не надеясь. - Спроси у нее, она дома сидит, вяжет… - денег у бабушки всегда было впритык, а Толику она вообще не давала. - Тьфу, черт! - Толик выплюнул папиросу в клумбу - Где достать?… Мать на службе до утра… - и замолчал, тупо качая шлепанцем. - Цы цы-цы-цы… - раздался знакомый смех. Чума щекотала прутиком Машку, та хрюкала и терлась боком о загон. - А ну, пошла оттуда! Зараза! - прикрикнул на нее Толик. Чума, смирная после котенка, без слов отошла, залезла на свой ящик и стала раскачиваться на Фиминых проводах. Тишина и натужное сопение Толика. - Зинку спрашивал еще днем… У Вальки нет… Кирзун не даст… - снова молчание и сопение. - Привет! - в калитку вошел Лева. - Сидим? - О! А ты откуда? Ты же на вечер пошел… - Толик даже встал. Лева был, хоть и бесполезный, но к самогону поближе. - Пошел и пришел… - Лева явно был чем-то расстроен и не останавливаесь скрылся в доме. - Тьфу… Я думал, может, у него стрельнуть… Да откуда у него… - продолжал размышлять Толик вслух, тяжело дыша и переживая похмелье. - Сюда! Быстро! Пошли! - искаженное, злорадное лицо Левы мгновенно заинтриговало нас и мы двинулись за младшим Кирзуном, нелепо двигаясь след в след, на цыпочках, чтобы не скрипели половицы, с лицами полными тайного идиотизма. Лева подошел к своей двери и знаками, прикладывая палец к губам и маня, тихо копаясь в замке, подтянул нас к себе. Мы молчали, оглушенные неожидан-ностью. За дверью громко играла музыка, любимая песня Семена Михайловича «друг всегда уступить готов…». Лева, взволнованно дыша, сделал, как фокусник, непонятные пассы и резко открыл дверь. - Вот! - торжественно указал рукой в комнату Лева. - Вот на что этот… - запнулся, волнуясь. - Этот тратит деньги… Смотрите! Толик сходу влез, загородив собою проход и я с трудом просунул голову между ними. Немая картинка в комнате предстала перед нами в следующем виде - Кирзун сидел в кресле в красном, махровом халате. Из глубины кресла кресла белела или синела, не помню уже, торчащая пиписька, а рядом на стуле Зинка, застывшая от внезапности нашего вторжения. Она отдернула руку от Кирзуна, словно ожегшись о горячую сковородку. Напротив на столе лежали несколько крупных купюр. Дальнейшее мне помнится, как кокофония, свалка из криков, визга на фоне указующей руки Левы, главного дирижера этого оглашенного концерта. - Вот! Вот!… Смотрите все, как он… - высокопарно всхлипывал Лева. - Ну и сука!… Во, ****ь!… - Толику совсем не везло с Зиной и он отыгрывался по полной. - Он, вот как!… А я?!… Вот… - Лева почти плакал. - Сучка! Ну, сучка… А сама-то, сама!… - слов не хватало всем. Это только выдержки из потока брани, оскорблений и истерики. Прикончила базар, пришедшая в себя, Зинка. - Ты-то чего разорался, дрыстун подзаборный?! - она не визжала, говорила громко, плотно и весомо. - Я-то ****ь… - сунула деньги в разрез платья. - А ты, ракетчик-импотент, кто? От тебя даже триппера приличного не получишь! Деловито прикрыла сморщенную «сосиску» Кирзуна полой халата. - Не писай в компот, Сема! - и спокойно, даже надменно, раздвинув нас ослабевших одной рукой, ушла. Послышался только резкий хлопок ее двери. Мы совсем забыли про Кирзуна, до сих пор сидевшего неподвижно, посинев и выпучив глаза. - Ну что?… Доигрался?!… - Лева начал и недоговорил. Семен Михайлович странно икнул, руки его безвольно упали с подлокотников, голова резко откинулась назад, низко отпавшая челюсть показала ряд золотых коронок, сквозь которые пенилась слюна, стекая на подбородок. - Скорую! Быстрей! Бегом! - в этих криках уже участвовали все жильцы дома: и Валентина, и Зинка, и моя бабушка, и Фима. - Что, помер? Цы-цы-цы-цы-цы - тряслась радостно Чума, незаметно сунувшая нос в эти горячие и непристойные дела нашего дома. Кирзун не умер. Сердце выдержало сильнейший инсульт, но паралич разбил его полностью, оставив глотательный рефлекс и моргание глазами. Когда скорая увезла Кирзуна, Лева остался и Толик подъехал к нему суетливо и приниженно. - Левик, слушай, будь другом, налей пол-банки… - В долг? - Да… - обреченно сознался ракетчик. - Когда отдашь? И я увидел в нем молодого Семена Михайловича в начале своей бесполезной и дурной жизни… Лева - Помоги, пожалуйста, фляги с брагой вынести… Я гнать не буду… Готовую продам, а фляги… Ну, чтоб вони этой не было. Заходил к Толику, он в отрубе… Об отце он уже и забыл думать… Да, Лева прав - бражный запах в небольшой комнате был не лучше чем сортирный. Мы вытащили одну флягу к лестнице и поняли, что покатимся вниз все вместе. - Давай через окно, один черт там сортир. Я согласился и мы с трудом подняли флягу на подоконник и ухнули напрасные напрасные труды и траты Кирзуна старшего в заросли лоупухов, облепивших сортир со двора. - Хорошо, что Толик не видит, удавился бы… То же мы повторили и со второй. Когда мы ее переворачивали, я наткнулся рукой на дне фляги на нечто, чего не было на первой - по центру фляги торчала большая латунная гайка и дно у фляги было без углубления - заподлицо. - Что это? - спросил я у Левы. Гайка прокручивалась от руки. - Не знаю… - он задумчиво покрутил гайку, стукнул пальцем по дну, посмотрел на меня и унес флягу в угол. - Все, спасибо. Я бы налил, если бы ты пил… Теперь мне прибраться надо… И не навязчиво выставил меня за дверь. Я сходил в магазин за хлебом, почесал машку за ухом, которая, мило хрюкая, норовила цапнуть меня за руку. Хотел сходить на болотинку за карасиком, но меня опять позвал Лева. Он был с большой спортивной сумкой и улыбался, будто нетрезвый. - Возьми…- протянул мне ключ. - Пусть побудет у тебя. Никому не давай! Спрячь где-нибудь в комнате. - А ты? - не понимая, спросил я почему-то шепотом. - Мне съездить кой-куда надо… Да, там пластмассовая канистра с самогоном - он вздохнул, как о потере имущества. - Отдай, вообщем, ее Толику и с шестикрылым пусть поделится… Вот так… Пока - хлопнул меня по плечу, о чем-то опять задумался, вроде как решал задачку, опять тяжело вздохнул и быстро сунул мне в карман нечто. - Пока… - и не оглядываясь, пошел к калитке. Больше мы его не видели. Я стоял, ничего не сображая. Достал из кармана то, что он положил - оказалась, свернутая вчетверо десятка… Ну и дела! - Где Левка? - на крыльце стоял стоял опухший Толик. Я объяснил и он, приговаривая - во, блин! - потащил меня наверх. Я нашел канистру, отдал Толику, который мигом усвистел. Я огляделся. Вещи были разбросаны, валялись прямо у открытого шкафа. Больше никаких изменений не было, только около опрокинутой фляги лежал аллюминиевый круг с дыркой по центру, да поблескивала желтым латунная гайка. Читая уже написанное, я в который раз убеждаюсь, что путаю хронологию событий, путаю времена года. Не знаю, насколько важно, шел снег, или дождь, дул ветер или было затишье. Конечно, предполагаю, что эти факторы могут, и вносят наверняка коррективы в судьбы или, вернее в эпизоды судеб но, когда событие свершилось, можно-ли быть столь самоуверенным, чтобы описать тысячи и тысячи причин ведущих к следствию? Я не решился попробовать такой дотошный анализ фактов нашего бытия и ограничился изложением виденного, да и то, перетасовал все, как карты в колоде. В одном я уверен, что количественно и качественно колода моих карт-фактов осталась цельной. После отъезда Левы на дом опустилось затишье. Куда-то улетучились вопли и ругань. Во первых, на кухне стало меньше людей. Согласитесь, что это важный фактор для спокойной жизни. Валентина бережно носила подрастающий живот. Толик сменил Кирзуна на посту самогоноварения, забрав у него всю аппаратуру. Правда, гнал он, по - моему, больше для себя, ибо не просыхал элитный ракетчик круглые сутки. Фима зарылся в своей норе и слышно было только постукивание молотка, вжиканье ножовки и неясное бормотание. Иосиф Васильевич как-то осунулся, здоровался не глядя, наверное от усталости - заканчивалась постройка комбинатовского дома и Тило после работы шел на стройку в надежде выхлопотать ордер, поэтому его и видно-то не было. Зина удивляла всех тем, что к ней перестали приходить мужики. Зато сама она стала возвращаться домой поздно и, говорят, видели, как ее провожал интересный кавалер. Даже баба Люба сбросила немного свой центнер и стала осторожно спускаться в туалет. ВОХР стала более приветливой и грустной. И можно было ее понять - сынок, ее гордость и отрада, сержант, герой - пил беспробудно и она проводила его обработку тихо, дабы не выносить сор из избы. Чума, как всегда, рыскала везде, все пронюхивала, но ничего не творила, только цы-цы-цыкала невпопад и чему-то про себя радовалась. Привезли из больницы Кирзуна, беспомощного, бледного, похудевшего и жалкого. Его дружно подняли наверх и посадили в кресло. Женщина из какой-то службы спрашивала о его родственниках, просила помочь пока не соберут нужных бумаг и тогда Кирзун поедет на гособеспечение. Наши бабки и тетки согласились, добрые души, и ухаживали за несчастным по очереди. Сам Кирзун первый дни, сидя в кресле и укрытый одеялом, постоянно плакал, кося в угол, где остался лежать аллюминиевый круг с дыркой и латунная гайка, и бесконечная скорбь читалась в его покрасневших глазах. Горькую новость сообщил, пришедший к нам, следователь-важняк. Левин труп нашли на каком-то перегоне возле Ростова - его выкинули из поезда на ходу. Сумка лежала в двух километрах от тела. Приехала мать Левы оформлять документы и забрать тело. Она заходила к бывшему мужу, пыталась с ним объясняться и, когда она, плача, сказала о смерти сына, то торжество засветилось в глазах паралитика и он даже начал идти на поправку, зашевелив пальцем правой руки. Но и это нас миновало тихо, без рыданий и стенаний, все прошло как-то стороной и тишина продолжала висеть над Болдинской 8. Но не могло так продолжаться долго в этом доме! Тишина для нашего дома просто временная патология, заболевание, когда хочется спать, завернувшись в теплое одеяло.И долго это продолжаться не могло! И наконец-то тишину взрезал дикий свинячий визг, смешанный еще с каким-то рычанием или ревом. Наконец-то, очнувшаяся ото сна Болдинская 8, вздрогнула, вспомнила себя и с криками: Кто! Чего?! Где?! - бросилась на улицу. Машка визжала и билась в загоне, как сошедший с ума, бык, норовя пробить стены и загородку. В пятаке у нее торчало, загнанное по рукоятку, шило, от корого она безуспешно пыталась избавиться и еще больше причиняя себе боль. А тут же рядом, разбрасывая кровавый снег, каталась Чума с воем и рычанием и, казалось, что кровь брызжет у нее отовсюду - Машка откусила ей три пальца на правой руке. Скорая отвезла Ирку. Толик каким-то чудом сумел поймать ручку шила не без риска для себя и выдернуть из окровавленного пятака ошалевшей Машки, которая еще два дня сатанела, вплоть до того, что ее хотели досрочно зарезать. Чуму выписали быстро, без трех пальцев. И жизнь в нашем доме вошла в норму и, как сказал так же очнувшийся Серафим - Перед стартом всегда требуется разминка. Валентина - Валюша, завтра расширенное заседание профкома, распределение квартир - целовал ее в ухо, покусывая мочку, Быков. - Валюша… - Да не могу я, как ты не понимаешь… - извинялась Валентина. - Нельзя мне… - Так нельзя - многозначительно шепнул Быков. - А так? - он влез ей в ухо губами. Валентина покраснела. Ей приходилось исполнять подобные прихоти мужа без всяких чувств, чисто механически. Но сейчас перед ней стоял взволнованный, вспотевший и несколько беспомощный - ОТЕЦ ее будущего ребенка, которому отказать она уже ни в чем не могла. После, когда она, отвернувшись, подкрасила губы и, повернувшись, пропела почти - Завтра, значит, Володичка, ордер? - Нехорошие искорки пробежали в пристальном и неласковом взгляде. Цинизм вошел в нее без всякого сопротивления, как новое качество ее новой жизни. Назавтра Тило получил ордер на двухкомнатную квартиру под аплодисменты коллектива и пожатия рук начальства. Фима Чуму выписали. Она затихла так, как будто именно из-за этих трех пальцев и зависело ее поведение. А я наконец-то получил от матери письмо. Письмо было короткое, мать постоянно просила прощения, писала, что здорова и в конце, что в связи с амнистией она освобождается в этом году после ноябрьских праздников и заберет меня. По всему письму шли водянистые подтеки. Я был искренне рад и сразу сообщил Фиме эту новость. Фима сидел на допинге. В отличие от Кирзуна, Толик давал самогон взаймы и забывал кому, угощал многих, в том числе и Фиму, и это становилось все чаще. Теперь травник Фима закусывал мясом и под глазами у него появилась темная отечность. - Это хорошо, что ты уедешь, очень хорошо. - Почему? - Почему… А ты глянь… Стрелка концентратора вибрировала около КП - критической плотности. - Видишь? Это уже опасно… Тебе надо уезжать… А мне?… Мне нет… Мне тут до конца. - А этот как? - я показал на искатель. - А-а… - Фима махнул рукой. - Как уткнулся вниз, так и не шевелится. Я не знаю, почему… - А новый прибор?… - О-о-о! - гордо провел по лысине рукой, вскинув голову. - Почти готово… Вот… - он показал на верстаке конструкцию в виде Z - образной трубки, наподобие вращающейся огородной поливалки. Эта трубка вставлялась в другую, вертикально закрепленную на верстаке и снизу подключалась к газовому шлангу. Вся конструкция окружалась тонкими стальными пластинами, закрепленными с одного конца. - А они зачем? - Слушай… - Фима по очереди пощелкал по ним ногтем. Каждая из пластин издала свой звук, наподобие камертона. - Молибден, ванадий, вольфрам и пару сплавов с редкоземами. Хочешь послушать? Я кивнул. Фима взял спички и поджег Z - образную трубку, которая начала вращаться, отталкиваясь тонкими струйками огня. - Это форсунки. Моя конструкция… Слушай. Струйки пламени чуть касались пластин и, по мере увеличения скорости вращения, я услышал, нет, даже не услышал а почувствовал в животе нехорошее гудение, которое нарастало, повышая тон и вызывая у меня беспокойство и головокружение. В конце-концов меня начало мутить и я замахал руками, прося прекратить опыт. Фима отключил газ и радостно потер ладони. Звук прекратился а с ним исчезло плохое состояние. - Действует! Немного доработать и, да здравствует Божья Матерь! - Фима потянулся за колбой, а я тихонько выскользнул на улицу - мне не нравилось, что Фима стал часто выпивать, да еще с Толиком. Чума Город подходил к Болдинской 8. Уже невдалеке начиналось строительство микрорайона. От нашей трансформаторной будки в сторону города прокопали траншею и кинули в нее кабель, который я потихоньку срезал с конца, снимая свинцовую оболочку. Из этого свинца я отливал «тюшки», которыми играл с ребятами на мелкие деньги. Сейчас я видел, что у будки копошатся люди и пошел из любопытства посмотреть. В ТП действительно «работали». Там был Толик и двое электриков, которые мирно закусывали и мирно пили самогон. - Ты на тот фидер перекинул - спросил один другого. Другой кинул схему. - Смотри... Толик то же влез и совал палец, то в схему, то в щит, полный рубильников и предохранителей. - Все, блин, правильно. Это вон она, а это вон тут. - Толян, не тычь пальцем, зашибет… - А ты кабель прозвонил? - один другому. - Прозвонил? Это ты его прозванивал… - А-а-а… Да… Тогда чего? Врубаю… А ты иди на ТП-6. Вернешься, еще одну у Толяна возьмем - и, посмотрев еще раз в схему, на щит, включил рубильник. Сколько Болдинская 8 слышала криков, воплей, стонов, но такой жути она не слышала никогда. Хрип, шипение, визг - смешались воедино так, что захотелось заткнуть уши. - Что там?!… Ептыть… Блин! - Толик вскочил и побежал во двор. Я за ним. Толик бежал впереди и, добежав до дома, вдруг остановился, присел и закрыл лицо руками. Я добежал и увидел. Стоя на железном ящике босиком, держась двумя руками за Фимины провода, корчилась, шипела, черная, с искаженным лицом Ирка-чума. От нее пахло, как от зажаренного котенка. Ее корежило, гнуло и трясло. - Отключай!!! Отключай, твою мать!!! - Толик бежал назад. И наш дом опять наполнился воплями, а я не мог оторвать глаз от того, что когда-то было Иркой. Теперь на лице белели только зубы и странные красные точки горели в выпученных, прямо глядящих глазах. Ток отключили. Фидер электрики, конечно, перепутали. Приехала скорая. Ирка на удивление, еще жила и, когда ее положили на носилки, прошептала. - Братик… Жалко… Умерла она по пути в больницу. Похороны Печальные хлопоты по проводам Чумы имели, все-таки, нехарактерный оттенок. Все понимали трагичность происшедшего и одно-временно весь дом эдак удовлетворенно вздохнул - столько неприятностей приносила сумасбродная, неуправляемая Ирка-чума. Тило готовились к переезду и упаковывали потихоньку вещи. Валентина с Зиной и Соней ВОХР обсчитывали количество белья для новорожденного. Обмусоливался так-же и остро дефицитный вопрос - где достать хорошую импортную коляску. Валентина вздыхала безнадежно, хотя хорошо знала, что Быков уже договорился с потребсоюзом, через который основной импорт и шел, прикрываясь обменом на сельхозпродукцию и различные грибно-ягодные заготовки. Фима носился, не обращая внимания на озабоченность дома похоронами, нырял в погреб и выныривал кому-нибудь под ноги, за что на него кричали - «Ну ты, семихрен шестикрылый, ты хоть сегодня не путайся!» Он не обращал внимания и когда, притомившись сел отдохнуть, то пожаловался, что не хватает давления газа и его поглотитель не развивает нужную мощность и, что Ирка, чей гроб стоял на табуретках во дворе, типичная одержимая и такие жизни подобным образом и заканчиваются, и он помочь ей не мог, поскольку это делают специалисты «бесогоны», а Серафимы этого не умеют. Я спросил - А почему, когда работает поглотитель, мне становится плохо? - Потому что зло есть во всех в разных пропорциях. Но оно сбалансировано с горними силами, как равные грузы на весах, но попробуй только дунуть на одну чашечку и она сразу перевесит, и одной из сторон станет хуже. Можно и без приборов определить концентрацию зла - это сумрачное настроение, надрывное веселье, постоянно закрытые шторы на окнах… - У тебя вообще окон нет - заметил я. - Я не в счет, я могу и в погребе прожить… Пришел похоронный автобус. Ирка в гробу была похожа на милую куклу, так ее загримировали Валентина с Зиной. Только губы, тонкие и упрямо сжатые говорили о том, что Ирка до сих пор чему-то сопротивляется и отстаивает свою чумную независимость. Закрыли крышку гроба. В автобусе сзади открыли лючок и задвинули гроб в середину салона. Мы все разместились по сторонам. Не поехал Серафим и, естественно, Кирзун. У гроба стоял небольшой венок с черной лентой. Я читал выспренную надпись на ленте и придумывал свою, типа – «Ирке-чуме, взбаламутившей не только болото, но и весь дом, от благодарных соседей, жуков, лягушек и котят». Машку я решил не включать, так как она сполна ей отомстила. Баба Люба плакала тихо с непонятным выражением лица и без трясущихся щек. Валентина была бледная и, словно прислушиваясь, поддерживала живот. Все молчали, соблюдая этикет, один поддатый Толик не мог успокоиться. «Я же, блин, им показывал, на какой фидер, а они типа, не суйся… И вот…» - никто не отвечал и под одинокое бухтение Толика мы приехали на кладбище. Там гроб опять поставили на табуретки встали вокруг. Подъехал на москвиче незнакомый здоровый мужик, положил в гроб цветы и отошел в сторону. Через шепот стоявших рядом стрелка ВОХР и Зинки я узнал, что приехавший на москвиче мужик - Володя Быков. Валентина побледнела еще больше, голову и смотрела в землю. Тило кивнул головой Быкову и сразу ушел в автобус. Гроб поставили на лопаты и протянули под ним веревки. Лопаты вынули и рабочие на веревках опустили Ирку в могилу. Быков подошел, бросил на гроб горсть земли, сел в машину и уехал. Могилу стали зарывать а из автобуса вышел Иосиф Васильевич с двумя сумками в руках и, когда холмик был готов, из сумок достали водку и закуски. Рис с изюмом мне понравился больше, чем бутерброды с колбасой. Говорили - земля ей пухом, бедолага, теперь успокоилась… А Зина спросила у стрелка - Правда, что Быков гулял с Иркиной матерью и Ирка… Ну… Это…- и Соня отвечала, жуя - Почему бы и нет? Он осеменил половину комбината… Охнула Валентина, держась за живот и села прямо на могилку, привалившись на бок. Ее на похоронном автобусе и отвезли в больницу. Рожать было рано и она легла на сохранение. Поминки справили тихо. Толик уснул прямо за столом и его не будили. Тило остался в больнице. А Серафим начал рвать на себе волосы. Фима - Нет, ты смотри, что происходит! - Фима схватил себя за уши и пытался, видимо, их оторвать. - Это ни в какие ворота не лезет! - мне оставалось только слушать - вставить слово было некуда… - Я работаю себе с поглотителем. Все уехали. Тихо, благодать… Тут слышу, концентратор завибрировал и стал аж подпрыгивать. Гляжу, стрелка на воплощении. Матерь Божия!… Я включаю поглотитель на полную - никакого эффекта. Концентратор трясет и все тут… А искатель! Он, как с ума сошел - шар крутится беспорядочно во все стороны. Полностью потерял ориентир. Пока я с ним возился, слышу сзади щелк, тресь и тишина… - Фима чуть не плакал. - Бальсовая чаша концентратора лопнула, смотри, и раствор весь вытек, вон лужа… Господи! Да это самый нужный прибор! Заделать трещину я смогу, но раствор… - он сел и закрыл лицо. - Раствор я делал чисто опытным путем, без записей… Мне не восстановить… Теперь я могу пропустить момент… Я и сейчас не знаю, произошло или нет… Мне не простится… Но я и не думал… Никогда не было… Откуда такая мощность? - замолчал, качая головой. Я посмотрел на искатель. Стрелка показывала точно вверх. Фима заметил мой взгляд. - Когда вверх, означает, что найти объект он не может и показывает в никуда… Какие будут последствия? Никто не знает… Если своим нюхом не учую - беда. - он подошел к колбе и налил грамм сто - Прости, Господи… - перекрестился и выпил одним глотком, как никогда не пил, как пил Толик и другие мужики, как пили электрики, убившие Ирку. - Фима, может, это не так все страшно? Может, ты преувеличиваешь? - он ошарашил меня чересчур взволнованным для него монологом. - Не страшно?! - он заходил по каморке, заламывая с хрустом, пальцы. - А не страшно, когда тебе, живому, вырезают глаза?! Когда… Заглянул Толик с тарелкой сала с прослойкой. - Шестикрылый, кончай буянить, давай тихонько за Ирку… До сих пор не могу забыть… Хотя и зараза она была страшная. Фима глянул не на Толика а, почему-то, на меня. - Какая же она страшная? Совсем не страшная… Несчастная… А страшное… это… - глубокие складки появились у него на лбу. - Страшное, это… - и взял кусок сала с тарелки. Тило В последующие дни и недели, после рождения у Валентины сына, мы узнавали, что он постоянно болеет. Зина, навещавшая Валентину, рассказывала, что врачам приходится бороться за жизнь маленького Тило. Острая диспепсия, стафилококк - ребенок умирал - врачи его вытаскивали. Врачи победили и в нашем доме появился, приехавший на такси, младенец с раздобревшей мамой, несущей впереди себя грудь внушительных размеров. Молока у нее хватало на троих и приходилось сцеживать или, иногда расчувствовавшийся отец отсасывал молоко сам чтобы не было мастита. Все жильцы нашего дома, способные передвигаться, перетискали и перещупали маленького Тило. Собрали небольшую вечерушку, выпивали, закусывали. Мальчика назвали Василием в честь деда и никто против не был. А я думаю, что всем было просто наплевать, всем хотелось праздника, выпивки и веселья. И в какой-то момент спросил Толик, плеская из стакана на стол - Дайте посмотреть, на кого похож… И Соня-ВОХР, мать Толика, сказала не совсем однозначно - На кого, на кого… Сиди! На отца похож, на кого же еще!… Иосиф Васильевич, как всегда, не объясняясь, ушел в дом и мотылялся там чуть-ли не до конца пьянки. А Зина игралась с малышом с большим удовольствием, щекотала его, как я Машку, трепала за щеки и в ее глазах была видна печаль не исполненного материнства. Васек молчал и не реагировал, посапывая серьезно. Пустышка заменяла ему в этот момент все ласки и хохмы. И тогда Зина, не понимая почему ребенок не реагирует на знаки внимания, а тщательно чмокает соску, глядя на ее действия взросло и недружелюбно, со смехом выдернула пустышку и повертела возле носа Васька. - Чика! - сказал Васек чисто и непререкаемо - Чика! Все услышали и захохотали - какой малец, а уже говорит… - Чика! - последний раз предупредил младенец и зашелся безмерным ревом так, что Зина с испугом сунула соску на место. Рев прекратился моментально с первым чмоком. - Интересно, а что такое Чика? - Зина выдернула резинку изо рта и все опять услышали четкий приказ Василия - Чика! Так и стали звать его до отъезда на новую квартиру, где Иосиф Васильевич затеял ремонт, пока не въехали. Стелил линолеум, переклеивал обои, менял краны… А во дворе и коридоре, где часто стояла красивая немецкая коляска с Васьком, жители не могли пройти мимо, не выдернув соску и не услышав приказ оттуда - «чика!» Болдинская 8 Вот и подошло время для полного успокоения нашего дома. Васек, веселивший нас розовощеким детством, перезжал на новую квартиру. Машина уже стояла во дворе, а мы таскали перевязанные коробки и подавали на грузовик, где командовал Иосиф Васильевич - Не давайте Толику эту коробку! - кричал он нервно - Там посуда! Толик обиделся и ушел на лавку, безуспешно пытаясь прикурить, да так и застыл с не зажженной спичкой в руке. Валентина и Соня ВОХР вынесли большой тюк, наверное, подушки и простыни, упакованные в скатерть, когда к дому подъехало такси и это было так необычно, что все остановились, кроме грузчиков, тащивших диван. Из такси вышла Зина с молодым человеком, симпатичным и ладно одетым. Зина представила его опупевшим жильцам спокойно и бытово - Знакомьтесь, Алексей… Мой муж… Я переезжаю к нему. Пробыли они недолго в доме. Алексей вынес два чемодана, сказал до свидания по пути к такси. Зина обняла Валентину, пощекотала Васька и, помахав нам рукой, сказала - Остальное заберу потом… - и уехала в новую жизнь. Моя бабушка поднесла две кастрюли, пожелала Тило хорошего здоровья, им и младенцу, извинилась - ей нужно было в собес за какой-то справкой и заковыляла в город. Машину почти упаковали и я решил заглянуть к Фиме. Дверь была закрыта и из-за нее слышался храп и знакомое гудение, от которого мне сразу стало нехорошо. Пусть спит, решил я - они с Толиком с утра усугубили прилично и теперь ракетчик дрых на лавке, а Фима на посту. Машину загрузили и присели на крыльце выпить на прощание, как начал орать в коляске Васек. Он орал истошно и коляска качалась, как телега на плохой дороге. - Соску потерял… Сходи, Ёся… Иосиф Васильевич нашел соску и попытался установить ее на место, но Васек соску выплевывал и продолжал голосить еще громче. - Покорми его, Валя… Не берет свою чику… Валентина взяла дрыгающегося Васька и отошла в сторонку к машине, присев на подножку. Она не только ничего не добилась, но и вскрикнула громко - Васька выплюнул грудь после того, как укусил Валентину до крови и продолжил свой предотъездный концерт. - Ну все! Поехали! - терпение Тило лопнуло - У него живот разболелся… - и забросил аккуратно коляску в кузов, залез сам и помог грузчикам. - Прощайте! - одновременно сказали Валентина на подножке кабины и Иосиф Васильевич, сидевший в кузове на диване. - Мы вас… Всегда… - промычал на лавке Толик. Кричал Васек, кричала и плакала выпившая Соня, когда на пороге появился одуревший Фима - Я опоздал!… Простите меня!… Нет… Поздно... Меня никто не простит… Тило махнул ему рукой, мол, успокойся, все в порядке… Машина тронулась под рев младшего, перекрывающий треск глушителя машины и странные вещания Фимы, задравшего вверх руки в проеме двери - И ветви лесов наших начнут рвать людей на части… - Шестикрылый, прекрати! - Соня пыталась впихнуть Фиму в дом - Психушку вызову!… - Фима упирался - И наполнятся леса телами гниющими и истерзанными, и во всем виноват я… Слезы текли по его лицу и не было, казалось, в мире человека более отчаявшегося, чем Фима. - Ну, твою мать!… - Соня уже почти втащила его в дом, а я побежал провожать машину, чувствуя зависть к отъезжающим и сожалея, что это не я, и от радости, что хоть кто-то да уезжает от этого нехорошего места. - Толик!… - кричала ВОХР - Толик! Хватит валяться на лавке! Иди домой спать… Тьфу… Тухлыми яйцами воняет… Я остановился и посмотрел на дом. Он выглядел страшно, но все-таки крупицы прожитого, уже родного, виделись мне в его задрипанном виде… - Щас!… Чего разоралась?… - Толик встал и, опять пробуя поджечь спичку, вошел в дом - Ну чего тут опять воняет?… У тебя всегда что-нибудь воняет… Я видел, как в глубине коридора он зажег наконец-то спичку… И - земля подо мной дрогнула. Дом приподнялся, выплевывая стекла из всех окон, раздулся чуть-чуть. Сноп огня вырвался из дверей и Болдинская 8, сложившись внутрь, рухнула, образовав огромный костер, в котором еще несколько раз рвануло, поднимая в воздух языки пламени и куски горящего дерева. Так закончилась для меня эта жизнь. Через неделю приехала мать. На этом можно было закончить рассказ о Болдинской 8. Я стал взрослым человеком и проживал в другом городе, хотя и понимал, что печать прожитого оставила глубокий след в душе. Я долгие годы не мог избавиться от снов, в которых полыхал огонь и взрывались газовые баллоны, и разлетались бревна. И я видел в этом пожарище стоящего, воздев руки к небу, Фиму, шестикрылого Серафима и несчастного шизофреника. Да, можно было заканчивать и забывать. Забывать всегда надо уметь. И у меня получилось бы. Как говорят, описывая события, ты избавляешься от них. Так бы и было, именно так, если бы я не узнал по прошествии многих лет, что ужас опустился на город моего детства и загнал людей в квартиры, запер двери на все замки и занавесил шторы - по окрестным лесочкам появились изрезанные, расчлененные, иногда полусгнившие тела молодых женщин, девушек и почти детей. Те, кто находил тела, или родные погибших, уезжали из города или лечились у психиатра. Эпилог Он убил ее быстро. Точнее, не совсем убил, как он сам думал - просто задушил шнуром, когда она выпила вина и закусывала бутербродом. Дело обошлось, как всегда, без крика. Сила, с которой он сдавил ей горло, позволила только чуть вырваться хрипу, немного подергаться и все… Сердце не билось, но он знал, что жизнь еще там, самое главное для него еще не ушло. Положил ее на спину, хихикнул, стукнув по подбородку, чтобы закрыть рот, разрезал очень острым ножом всю одежду и, раскрыв, стал рассматривать. Он не имел к ней зла, да и никаких особых чувств. Но разве мог он объяснить глупышке, что и зачем он делает. Иногда в уединении он фантазировал на подобные темы, уговаривал и понимал, что такую высоту чувства нелепо доказывать. Это было так далеко от несчастных, полупустых людей. Он ждал… Кем он был для своих жертв? Он задумывался над этим, но ответа дать так и не смог. Он не жаждал власти над ними и поэтому убивал быстро, так быстро, что жертва не успевала ничего сообразить. Он не удовлетворялся мучениями жертв, не мучал их и был, как сам думал, гуманен с несчастными. Пожалуй, самое близкое к реальности, было слово «питался», не поедал плоть ( в его рационе и мясо бывало не часто) - он ждал и ловил тот, одному ему известный трепет, вибрацию уходящей из тела жизни, жизни ненужной, как он считал, пустой и темной, которую он поглощал безудержно и жадно. И в этом смысле он был похож на стервятника, подбирающего брошенное за ненадобностью и разлагающееся… Он был выше других, был квинтэссенцией всей людской низости, разлитой неравными частями в каждом человеке, человеке лишенном необходимых критериев морали и достоинства, призванных приходить к нам издалека, из других, высших законов правильной и простой жизни, что должны были накапливаться и крепнуть с каждым поколением, но по какой-то причине оказались отрезаны, подменены и забыты… И теперь он, верхушка айсберга человеческой грязи и гнили, являл миру свою мощь, накопленную за пропащие столетия отступничества. Он напрягся. Тончайшая дрожь шла от ступней к голове и, когда она окутала его и спеленала, как когда-то мать в мягкую, теплую фланелевую пеленку, он повалился вбок, засучил ногами, срывая каблуками мох и зарычал тихо с шипеньем, почти теряя сознание - Чика… Чика… После, немного придя в себя, уже другой, с безумным взглядом и перекошенным злобой лицом, прошептал - Ты ушла…. Зачем?… Зачем ты ушла?… Как я теперь?… С кем?… И начал остервенело кромсать обвалочным ножом ненужную уже оболочку. ... Дунул легкий ветерок, пригибая пожухлую октябрьскую траву. Мелькнувший луч света в рваных дождливых тучах высветил полянку среди березок и низкорослых сосен, газету с раздавленными на ней бутербродами, затрепетал в бусинках воды на листьях и траве, собрался в небольшое пятнышко на пряди волос, спутанной с серебристым мхом и, показалось, обернулся, взлетел из ниоткуда огромной, красивой бабочкой, совершенно невозможной для этих краев и тем более для поздней осени. Бабочка неспеша взмахнула большими желтыми, перепончатыми крыльями с черной оторочкой и двумя красными пятнышками, и вольготно, даже торжественно, уселась на конец деревянной ручки ножа, судорожно зажатой в крупной, жилистой руке. Copyright © 2014 Сергей Никифоров
Свидетельство о публикации №201407061976 опубликовано: 6 июля 2014, 11:25:43 На mirmuz.com можно вести творческие диалоги. Выберите в меню под этим сообщением вид публикации, которой хотите ответить на «Болдинская, 8». |